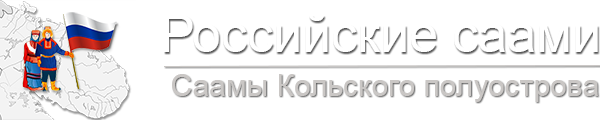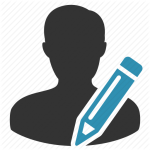Сказки и песни лопарей

- Автор: Немирович-Данченко В.И.
- Местоположение: Москва
- Год: 1877
Просмотры: 3195
В. И. Немирович-Данченко,"Страна Холода", 1877 г.
[195]
СКАЗКИ И ПЕСНИ ЛОПАРЕЙ.
Мурман и русская Лапландия давно манили меня в свою мало исследованную глушь, в те горные и прибрежные захолустья, где северная природа поражает туриста своим мрачным величием. По рассказам поморских судохозяев и промышленников, я еще прежде ознакомился с этим краем, и передо мною, словно в явь, часто рисовались каменные валы кольских берегов, оглашаемые рокотом вспененных волн, резким криком чаек, да долгим, пронзительным рыданием гагар. Не меньше интересовали меня первые поселения, испещряющие теперь карту западной части Мурмана. Хотелось на месте видеть жизнь смелого и предприимчивого помора-рыболова в его летнем становье, отважного колониста-русского, финна или норвежца, – все равно, в его плохо, на первый случай, сколоченном доме, или в черной, тесной землянки. А там еще заманчивее раскрывалась пустынная даль, свежая, горная, и лесная глушь, никому неизвестная, никем точно не нанесенная на карты, где неутомимо борется с нищетою и кулачеством честный и мирный труженик севера – лопарь. Великолепные озера Лапландии, ее порожистые реки, величавые панорамы каменных вершин, водопады, погосты инородцев с их своеобразным бытом обещали много новых впечатлений... К сожалению, я не мог углубиться на крайний восток Кольского полуострова и пройти чрез всю его середину до лумбовских лопарей, хотя средства сообщений (пешком и в лодках) здесь и не особенно дороги.
Одною из причин, почему меня особенно интересовала мурманская лопь, было усвоенное нашими учеными мнение, что у лопарей нет преданий, нет народной поэзии. Мне и до сих нор, несмотря на самые положительные данные, не верится, чтоб существовал, где бы то ни было, народ без сказки и без песни. Такого [196] нет, как нет человеческого организма без сердца. Я до сих пор думаю, что и самоеды имеют свой цикл песен и преданий о стародавних былях. Я не понимаю, ради чего лопари скрывали богатую и поэтическую область своих сказаний. Боялось ли это запуганное и загнанное племя всякого, кто не из его среды? Или просто оно “совестилось” за свои сказки и песни, потому что над ними беспощадно смеется русский промышленник и норвежец, потому что их, как суеверие, как пагубную ересь, осуждали наши священники. Это довольно вероятно. Когда я хорошо сошелся с лопарями, они сообщили мне, между прочим, что у них уже и прежде были двое каких-то юношей, не говоривших по-русски. Я желал узнать, не о гельсингфорских ли студентах идет речь. Оказалось, что лопари и сами не могут определить, кто это были. “Ездили, ходили по “варакам” (горам), песен да сказок спрашивали”. – ““Что же, вы им пели песни, рассказывали сказки?” – “И пели и рассказывали”. – “Какие же, старые свои?” – “Те совестно было говорить; думали – смеяться станут, мы русские сказки по нашему им говорили, а они записывали. Потом какие русские песни петь умеем, по своему пели им. Они их и петь выучились”.
Когда я сам поехал в Кильдинский погост – лопари заявляли положительно, что песен своих нет у них, а сказки забыли и припомнить не могут. В первую экскурсию мою по Туломе, я добился тех же печальных результатов. Наконец, вернувшись в Колу и отдыхая там от пешеходного скитальчества до следующей предположенной мною поездки в Массельгу, Иок остров, Бабенгу и Ену, я имел случай познакомиться с двумя священниками, долго жившими между лопарями. Один – почтенный отец Георгий Терентьев, честный труженик и полезный этнограф, отдавшей и свой заметный талант и все свои досуги исследованиям этой страны, положительно заверял меня, что искания мои напрасны, что лопарь сказок не говорит, песни поет только русские. Обратился я к другому священнику, тот задумался: “помилуйте, чего вы хотите? дикий народ! Не токмо, что песни их слушать, а и говорить с ними мне, по образованию моему, постыдно и противно. Дикость ихняя мне претит. Только потому и остаюсь здесь, что жалованье идет нам двойное...” Разумеется, с таким пастырем нечего было и продолжать своего разговора. Тем не менее, вывод быль один: лопари не имеют своей народной поэзии.
Не может быть! тысячу раз говорил я себе. Природа Лапландии прекрасна. Горные вершины ее веют диким величием своих громад, зеркальные плесы озер, извивы порожистых рек, узкие поросшие зеленью и даже шиповником на Туломе долины – перепол[197]нены истинно идиллическими красотами. Где же и петь, как не здесь, лицом к лицу с этою природой? Занятия лопарей – оленеводство и рыболовство – сами собою вызывают песню из груди человека. А зимние полярные вьюги, а сполохи, а цепи гор, а гремящие водопады – да это достаточная арена для целого мира сказок!
Полуразуверенный, но все еще сомневающийся, отправился я на Имандру. Все мое путешествие, богатое впечатлениями и результатами, явится в своем месте. Теперь же я попробую набросать одну из многих, представлявшихся мне по дороге картин.
День был знойный; вечером солнце садилось за высокими горами, обступившими в этом пункте озеро. К северо-востоку, на алом небе рисовались грандиозные вершины хибинских гор, на противоположной стороне, к юго-западу, вздымались на огнистом фоне заката темно-синие массы Мончь-тундры, Чуны-тундры и Оленьей-тундры 1. На Поу-телла и на Лявинской, самых высоких горах этого края, розовым блеском сияли вечные снега. Внизу расстилалось неподвижное озеро. Кое-где грациозно очерчивались острова, сплошь поросшие елями; в темной массе их яркими пятнами светилась нежная зелень берез. Берега тоже поросли щетиною однообразного леса, сливавшегося на краю горизонта с туманными очерками далей. В спокойной влаге озера порою медленно выплывали молодые выводки гагар, оставлявших за собою извилистый след. Сверху доносились крики чаек, а порою глухой шум потока нарушал вечное молчание этой величавой пустыни.
В ущельях сгущалась уже мгла; запад гас, когда лопарка, сидевшая против меня за веслами, запела сначала тихо, про себя, а потом и громче. Я прислушался. Звуки были чрезвычайно оригинальны. Гортанные, тихие, но в высшей степени монотонные, они не лишены были своеобразной прелести. Новость ли мотива подействовала на меня или в самой песне действительно звучало что-то мягкое, неуловимо красивое, только эти звуки казались подстать и грустным тонам вечера, и молчание окружающего безлюдья, и недвижному простору Имандры.
Этот момент произвел на меня невыразимое впечатление.
Лопарская песня была найдена.
В туже ночь, сидя у костра (в августе уже заметно темнеет), разложенного на вершине одной прибрежной вараки, я выслушал несколько преданий и песен, открывших передо мною новый мир. Смышленый лопарь, Василий Мошников переводил их по-русски, а девушка пела, несколько ободренная двумя стаканами вина. Отсюда уже – и в Иок-острове, и в Зашейке, и в Бабенге лопари почему-то перестали со мною чиниться. Они пели и рассказывали. Причем [198] отмечу одну любопытную черту. Никогда не пели мужчины, а женщины, никогда не рассказывали. Когда я просил лопаря спеть какую-нибудь песню, он поручал это своей жене, редко дочери. Если при этом была старуха, то присутствовавшие обращались к ней. Если я просил женщину рассказать мне что-нибудь, она безмолвно обращалась к мужу, отцу или брату, и уже они исполняли мою просьбу. Первая услышанная мною песня была необычайно грациозна. Я не знаю, насколько в ней сохранилось из старого лопского быта; знаю только, что поэзия этой песни общечеловечна. Вот содержание ее. Поёт девушка:
“С Мурд-озера, пришел ко мне рыболов, старый богатый рыболов с Мурд-озера. Принес он с собою золотую сеть, золотую сеть, серебряную. Сказал он мне: девушка, послушай меня; я поймаю тебя в свою золотую сеть, золотую сеть серебряную. Я унесу тебя далеко с собой, далеко с собой за горы, в золотой сети – серебряной. Я засмеялась рыболову; громко засмеялась ему, даже за варакой стало слышно. Поздно пришел ты сюда, старый рыболов, поздно принес ты сюда, богач рыболов, золотую сеть – серебряную. Прогадал ты свою рыбку, упустил ее... Уж давно попала она в чужую сеть, не в твою золотую –серебряную, а в простую пеньковую – плетеную. Не к тебе, богатому старику, а к бедному да молодому”.
– Редкий ноньче у нас может песню составить. Вот Василий Бархатов тот мастер. И прежде много таких было, которые умели. Один составит – другие подхватят, выучат и пошли петь везде, разве, что имена в песне переменять.
– Где же больше песни такие составляются?
– На свадьбах, на праздниках, на суймах, бывает когда и райдами едем. Старые песни лучше были. Их послушаешь, так зависть берет. По ним видно, что Бог тогда больше лопаря любил. Зверя было много, по сотне диких оленей за зиму на семью доставалось. А что бобра было! В старых песнях наших поется, как русские лопарям кланялись, хлебом кормили, водкой поили. А теперь – голодно. Рыбы мало, птицы тоже, оленя не стало.
– Про что у вас в старых песнях поется? спрашиваю я в другом месте, в Роснаволоке.
– Про девок, про мужиков, про оленя, про то, как тоскует жених по невесте, как жена по муже скучает.
– А говорят, у вас нет прежних песен – забыли?
– Врут. Про охоту поем. В наших сказках рассказывают как приходила чудь разорять нас, как швед бывал. Чудь приходила больше по ночам, нападала на спящих. Чудь эта убивала и [199] женщин; погосты жгла и разоряла. Лопари бегали от нее в сюземки. В наших сказках не слыхать, чтоб были богатыри, которые смели противиться чуди. Большею частью, чудь нападала на крайние погосты в Нот-озере и других местах по заходе солнца.
– Ну, а шведы?
– Разоряли и те, и другие, а поем мы про одну чудь. Старики говорят, что чудь нападала с шведской стороны. В плен не уводили, а просто убивали.
Тут же мне рассказали легенду о крещении лопарей.
– Лопь сначала креститься не давалась, бегала в вараки от преподобного отца. Ну только Бог послал ему силу чудесную. Поймал он двух лопарей, силой окрестил. Хорошо показалось – пошли и остальные.
В нескольких верстах отсюда мне рассказывали, что лопари от чуди в землю прятались. Как объяснить – не умеют, говорят только “в землю”. Попались мне кое-где следы рвов по реке Коле. Спрашиваю, что такое?
– Жили тут наши родичи в зимнее время, укрываясь от набегов шведов, которые, спускаясь по реке Туломе на остров Колу, перебили ното-озерян и сонгельчан-мужчин. Об этом событии напоминает остров, называемый “Немецким”.
В Хибинах есть две горы, похожие на одну, не расколовшуюся пополам – точно она расселась вертикально. Спрашиваю у лопарей, и на это оказывается легенда.
– “Пришла чудь, побежала лопь от нее в горы – и чудь в горы; лопь в леса – и чудь в леса. Спасенья не было. Уже несметно наших чудь побила, когда один ведун (иначе не знаю, как и назвать) выискался. Заклял гору, та раскрылась. Лопари вошли туда все. Видит чудь, нет никого. Только один главный чудин слышал, как наш ведун заклинал. Легла чудь спать. Наш ведун опять сказал такое слово, гора раскрылась, выпустила лопарей – и опять закрылась. На утро чудь проснулась. Главный чудин думал поймать наших; сказал подслушанное слово – разверзлась варака, впустила туда чудь, да и закрылась. Так они все там и умерли, потому что слова такого, чтоб выйти, не знали. Но только с ними лопка одна была, девушка; силой они увели ее с собою. Отец ее и просил ведуна сказать свое слово, чтоб дочь свою взять оттуда. Долго ведун не соглашался на это, да старик умолил. Ну, сказал ведун: сделать я сделаю, только смотри, чтоб худа не было. Сказал он свое слово, дрогнула земля, гора распалась, да так и стоите до сих пор – никто ее соединить уже не мог. А дочку-то [200] внутри старик нашел, только уже мертвую, и пропасть там чуди побитой лежало; сказывают старые охотники, и до сих пор кости белеют”...
Но больше всего предавай и песен мне удалось собрать между Иок-островом и Зашейком. И тут жаловались на чудь, и тут пели песни о старых нападениях ее, где лопари почти всегда играли страдательную роль. Действительно, это характерная черта лопарских преданий. Лопь редко бьет чудь, шишей и шведов. Почти и не бьет даже. На приводимые ниже предания о лопарских богатырях нужно смотреть как на исключения. Напротив, чудь, шиши и шведы бьют лопарей. Если лопь и спасается, то только при помощи ведунов или бури. Есть на Имандре остров Областной; против него жили некогда эк-островские и бабенгские лопари в куче, двумя погостами, употребляя новейшее название населенных лопарских мест. Скучились они от чуди – кучей лучше обороняться. Чудь всегда приходила невзначай и больше по весеннему “насту”, а тут явилась летом. Плыла она разорять лопарей по ночам. Так, против соединенных погостов она попала на остров “Областной” (старого названия лопари не помнят). Занималось утро. На Областном пришлось чуди пробыть целый день, чтоб ночью уже напасть на поселок. С деревьев, что растут на острове, высматривали они лопарское становье и толковали, как истребить лопарей, условливаясь никому не давать пощады. Но ночью вдруг поднялась буря и продолжалась четыре дня. Непогода стояла такая, что выехать чуди нельзя было, и вся она тут “подохла” до единого.
А то раз чудь шла разорять лопарей по насту. Была весна; только что снег подтаял, а тут невзначай ударил мороз и наст образовался крепкий; лопари убежали на Хибины. На горах было еще много снега. Лопари расчистили прямую дорогу на гору; по этой дороге и пошла чудь. Путь был крут. Лопари ухитрились: оторвали скалы да и спустили их на врагов. Вся чудь погибла, остался только их вождь. С тех пор на эти два погоста чудь и не нападала – боялась. Чудь билась мечами, а лопь стрелами, дополняет рассказчик.
Чудь, разорив и перебив нотозерских лопарей, шла назад на Колу (очевидно, позднейший вариант). Тяжело ей было нести с собою все награбленное добро. Чудь и выкопала громадную яму, положила туда сокровища и завалила скалою. Скала и теперь цела. Только откроется клад тому, кто одною стрелою убьет пятьдесят диких оленей.
От чуди западные, преимущественно нотозерсюе, лопари спасались, строя жилища в земле и не выпуская дыма наружу; такой [201] подземный город быль у них близ Падуна, на реке Туломе, где теперь устроен семужий забор. Об этом городке рассказывают следующее: “Жиле старик лопарь с женою и не имел вовсе детей. Ходил он часто по лесу; промышлял, значить. Раз он вышел на Падун и видить талое щелье – удивился: везде больше сажени снегу, а здесь нет ничего – голая земля. Смотрит он, а сам думает: должно быть здесь живет кто. Стал ждать. Вдруг из земли выходят маленькие дети и давай играть. Маленькие такие человечки играют, что белки – бесенята ли какие, лесовики ли, Господ их знает. Задумался старик. Пошел к жени и говорить: “сшей мне большую, большую каньгу”. Та сшила. Взял он каньгу и веревку и пошел на талое щелье. Привязал к веревке каньгу, бросил туда и ждет. Вечерело и, как солнышко только в последний разок осветило талое щелье, выбежали из земли дети. Один увидал каньгу и, играя, запихал туда обе ноги, да, вдобавок, шутя связал себя веревкой. Старик, как увидал это, крикнул страшным голосом; дети разбежались, остался один связанный. Старик взял его, принес домой и говорить жене: не было у нас сына, вот тебе и сын. Стали они его ростить. Вырос паренек. Только каждую весну нужно было смотреть за ним, чтоб не убежал куда. Скоро старик, старуха и парень перебрались в подземный городок и зажили там с прочею лопью. Раз весною они не доглядели за парнем, тот и убежал от них далеко, далеко. По горам бежал, по лесу бежал, пока не наткнулся на чудь. Чудь схватила паренька.
– Где живешь? Молчит.
– Где живешь? спрашивают.
– Где живешь? отвечает.
– Кто ты такой? спрашивают.
– Кто ты такой? отвечает.
– Как тебя звать? спрашивают.
– Как тебя звать? отвечает.
И так дальше. Как его спрашивают – теми же словами и отвечает. Озлобилась чудь.
Выбросить его в реку! Порешили.
Схватили парня, бросили. Вдруг видят, что, вместо лопаря, своего швырнули. Повторили еще – то же самое.
– Убить его мечом! приказывает “атаман”.
Зарубили его – смотрят, своих трех убили, а паренек все цел. Ну, тут чудь испугалась. Все же заставила повести ее на место, где жили старики. Хотела чудь убить их, да паренек сказала, что, если они дотронутся до отца и матери, так ни один жив не [202] дойдет до Колы. Взяли они его в проводники; “веди в Колу”, говорят. Вел он их четыре или пять дней и довел до острова на Туломе, что повыше Немецкого. Тут, говорит, ночевать нужно, потому в Колу ночью войти нельзя. Приплыли на остров в карбасах и заснули. Паренек взял все карбасы, перевязал их вместе и сам уплыл с ними. Утром чудь просыпается – ни карбасов, ни парня.
Так они все там и погибли. Дольше всех жиль “атаман”; он их и схоронил и вместе с ними положил деньги, много денег. Навалил каменьев и зарок сделал: кто здесь убьет своего сына и положить его в эту могилу, тому и достанется клад. С тем и умер.
“Тоже это место чудливое: нужно ехать мимо тихо, не кричать, а то достанется – плохо будет!” прибавляют лопари.
Нужно отдать справедливость художественному чутью лопарей. Все легенды они приурочивают к самым живописными местностям своих пустынь. Чуть повеличавее варака, чуть покрасивее островок среди плеса, чуть пограндиознее водопад – лопарь непременно сделает их ареною какой-нибудь стародавней были.
Недалеко от острова Областного, на озере Имандра, есть необычайно красивая варака. По рассказам лопарей, здесь в незапамятные времена жил лопин со старухой матерью и с казаком. Был этот лопин богатырь большой и кругом своей вежи, где промышлял, построил город из вицы, связав ее в два ряда и засыпав середину землею. Долго добиралась чудь до него и все хотела забрать его живьем. Наконец, раз набралось этой чуди, может, с тысячу человек и взошла она на вараку. Видит чудь внизу лопина – рыбу промышляет, и лопин видит чудь, – “Зачем вы пришли?” – “А тебя взять в полон.”
– Что ж, делать нечего! Я согласен идти с вами. Будь по вашему.
Пустил он их в город, а сам велел работнику (казаку) пойти и пригнать десяток оленей из тундры, да самых больших, для угощения чуди. Казак пригнал оленей; тогда лопин вырубил большущую ель и обтесал ее. Взял ель и говорить старухе-матери: уходи отсюда, потому я воевать чудь буду. Мать убежала в амбарушек в лесе. Лопин поставил несколько котлов, в которых красят невода; каждый котел в 15 ведер. Налил он туда много воды и давай убивать оленей для угощения; положил мясо и стал варить. Сварил и позвал чудь. Чудь села вокруг котлов, а лопин рядом с их начальником, атаманом. Стала чудь есть, а лопин вынул нож, будто для того, чтобы резать мясо, а нож-то [203] был аршина в два длины. Как будто нечаянно, отсекает он пальцы чудскому атаману, потом кровью его намазал себе губы и крикнул: какая вкусная кровь у чуди! Не успела чудь опомниться, как лопин схватил ель и давай бить чудь. Бил ее долго. Чудь и уйти не могла, потому кругом город. Кинется чудь в одну сторону – ель ее и там достанет, в другую – ель за нею. Везде он ею помахивает. Кротил он ее, кротил, все уже мертвы, а он все еще в исступлении бьет их. Когда прошло время, опомнился он и спохватился, где мать. Смотрит туда сюда, нет ее нигде. Горько заплакал лопин, думая, что убил и ее и казака. Долго он это плакал, как вдруг видит, что мать идет живая из амбарика. Обрадовался богатырь, собрал мертвых, закопал их, а над ними навалил целую вараку. Она и до сих пор есть. “Вон она”, указал мне лопарь на крутой и высокий холм правильной формы. И теперь, если ехат мимо него ночью – продолжал рассказчик – так слышен там шум и говор голосов, будто суйма какая под землею идет. Лопари и ездить мимо этого “кентища” боятся.
Не только лопари, но и поморские промышленники верят, что во время полярных бурь и метелей в воздухе чудь беснуется. В серой мгле кружится снег, кережки, вежи, оленей – все заметают 6елые сугробы.
– Это чудь разыгралась ныне! говорят промышленники.
– Она самая!
– Какая чудь?
– А в этих горах чудь жила; ну, как крещеные побили ее, она и ушла в камень, в нем и хоронится. По вечерам иди теперь вдоль варак – услышишь, как она внутри гор разговаривает. Перекликаются тоже. Из пахты в пахту 2... Глухо только. Страшно бывает. По ночам песни поют, а есть дни такие, когда чудь выходить из камня, да на всей вольной-волюшки тешит свой урос 3 вьюгами да мятелями.
Пахнет во время рассказа ветер в вежу – новое заключение.
– Не любить, когда об ней разговаривают.
Против такой чуди есть и заклятие.
Промышленник выходить из вежи. Ветер чуть не сбивает его с ног; оперевшись о вежу лицом к северу, промышленник крестит воздух, повторяя до двенадцати раз: “Во имя отца и сына и святого духа, чудь некрещеная схоронись в камень, размечись по понизью, не от меня грешного, а от креста христова, не я крещу – [204] Господь крестить, не я гоню – Господь гонит. Молитвенники соловецкие Зосима и Савватий – наши заступники, а Трифон печенгский предстатель и защитник наш и Варлаам керетский – надежа, во веки веков аминь!”
Вьюга разыгрывается все грознее и грознее, и чудь поганая никак не хочет уходить от него в камень, разметаться по понизью. Напротив, она словно тешится, взметывая волосы промышленника, сбрасывая с него шапку, сваливая его с ног, слепя ему глаза целыми комьями снега. Она точно хохочет над ним, целыми вереницами призраков проносясь мимо и белыми полами своих снеговых, ветром развеваемых, одежд задевая его по лицу. Со страху заклинателю кажется, что он видит над собою чьи-то белые костлявые руки.
– Не совладать! решает он. – Видно, сегодня дано ей...
У лопарей заметно особенное уважение к тем, кто умеет составлять песни и рассказывать старый былины. Мне в самых отдаленных погостах мурманской лопи рассказывали, что есть один такой поэт и рапсод в погосте Бабенгском. “Он и на голоса, на свои поет”.
– Про что же?
– Про разное. Больше про свое и про чужое жительство; много он тоже и сказок про чудь эту знает.
Уже около самого Зашейка я слышал следующую былину про чудь:
Были три богатыря с работником, три богатыря братана. Промышляли они в лесу и выстроили себе на Туломском подуне каменных тупы. Раз они подняли из Туломы две громадные скалы. Один из них донес до верху и положил там, а другой – только до половины. Так и теперь лежать эти камни. Сго человек не пошевелят их. Раз они послали казака в погост узнать живы ли лопари, чтоб пойти к ним в гости. Казак по дороге заснул, а в это время чудь разоряла погосты. Когда казак проснулся да пришел – чудь уже сожгла все. Казака схватили, узнали, что он живет у богатырей, и велели ему вести себя к ним. Младший брат богатырь соскучился ждать; должно быть, думал: все хорошо, потому казак там и остался. Пошел он в лес и видит – идет чудь на встречу, а впереди казак ведет их. Богатырь давай стрелять. Расстрелял все свои стрелы и давай рубить их. Пропасть положил он народу, наконец, один чудин срубил ему мечом полголовы. Так младший богатырь и упал тут. Пошла чудь дальше, вот и до каменных туп добрела. Увидели два брата-богатыря и давай стрелы пускать – много перегубили врага, наконец, у одного [206] и стрел больше нет. Остались только у старшего, который и продолжал бить чудь. И всю бы чудь они перебили, если б жонжа ему не изменил (лопари говорят про жену – он, хотя превосходно владеют русским языком и даже пословицы русские выдумывают), Он (т. е. жонка) подрезал тетивы у лука и крикнул чуди: “идите, берите моего мужа; он теперь ничего оделять не может!” Но чудь, все таки, не решалась идти к богатырю, а только просунула в печку к нему меч свой. Он схватился за него и порезал себе руки совсем. Тогда чудь связала его и брата и повела их к своему “царю”. По дороге, когда на ночлеге все заснула, богатырь говорить жене: Развяжи меня, я их всех перебью и одной рукой, а тебя не трону”. Но он (она) не сделал этого. На другой день чудь жонку убила, потому что жонка не должен изменять своему мужу. А богатырю у чудского царя быль большой почет.
В Эк-Острове уже отделяют чудь от шведов. Чудь жила недалеко от лопарей в верхах, а лопари на мелких озерах, где попало. Лопь в это “боязливое” время сидела кучками, врозь не разбиваясь вовсе: сонгельский погост с нотозерами, бабенгские с иок-островскими. Замечательно, что во всех этих преданиях о русских ни слова. Следовательно, лопь боролась чудью задолго до пришествия ушкуйников. Только в одной легенде есть указание, что между лопью ходило серебро, которое преимущественно грабила чудь, и серебро это было русское.
Женщин и детей чудь убивала мечами. А соберет, бывало, мужчин всех в одну тупу и сожжот. Кто из мужчин противился – того рубили мечами, кто покорялся – того жгли. Пощады не было никому. Время тогда было разбойное, нечистый ходил по воле, делал что хотел, тоже смутьянил везде, ругался над человеком. Лопин раз пошел в лес; вдруг видит нечистого. Испугался.
– Надо ля тебе животов (денег)? спрашивает нечистый.
– Надо.
– Поди домой, принеси, что вернее тебя.
Задумался лопарь, идет домой и рассказывает жене. Та говорить: “возьми меня; я вернее всех”. Повел он ее в лес. Приходить, нечистого еще нет.
– Поищи у меня в голове! говорить лопин, а сам ложится отдыхать. Скоро заснул; в это время подкрался чеорт. А у мужа нож быль больше четверти. Чорт шепчет жене:
– Убей мужа; я тебя за это с собой возьму.
Жена сначала не соглашалась, а потом взяла нож и только-что подняла руку, чтоб убить мужа, как чорт разбудил лопина.
– Кого ты ко мне привел? Видишь ты ее верность? Поди домой [206] и принеси, что вернее тебя. Лопин бросил жену в лесу, а сам пошел в вежу. Видит, там ничего нет, кроме собаки. Взял он собачонку, пошел в лес. Чорта опять нет. Лопин заснул. В это время нечистый стал потихоньку подкрадываться. Собака как почуяла его, залаяла и бросилась на него.
– Вот это действительно вернее тебя! сказал чорт. – Сколько же тебе денег?
Лопин назначил; нечистый расплатился взял собаку и ушел.
Здесь же между Иок-островом и Зашейком по пути мне пришлось слышать и другое весьма оригинальное предание: “За Колой, к западу живут лопари “больные”. Волос у них нет на голове да и вся она в струпьях и болячках. Нет между ними ни одного здорового. Лопари объясняют это тем, что кого крестил преподобный Трифон печенгский – у тех родятся дети, как следует, а кого он не крестил, у того пошло такое уродливое потомство”.
В Бабенгском погосте тоже мне пришлось выслушать немало рассказов о чуди; приведу самые характерные, заметив только, что во всяком погосте арену борьбы с чудью определяют не у себя, а подальше.
Пришла чудь на реку Воронью. Промышлял в это время один лопин лавозерский. Как увидел чудь – давай бежать от нее домой. Чудь заметила и кинулась за ним, как за проводником. К этому времени, как теперь к Ильину дню, вся лопь сбиралась в погост. Кельтище тут у них было огромное, как поле большое; на этом кельтище народ играл “бросая мячи”. Тут же играли два брата богатыря. Заметили они, что идет на них чудь, и все рядами, много рядов. Один брать схватил мотор (крюк, на котором варят), а другой надел шубу. Первый кричит второму: не отставай от меня. Бежать было некуда: впереди чудь, а назади река. Кинулся богатырь в ряды врага, размахивая мотором, и много он побил народа, прошел первый ряд, второй и третий, на третьем ряду брат отстал от него. Его было схватили за полы, но он, быстро скинув шубу, оставил ее у чуди, а сам побежал дальше. Наконец, перед ними оказалась река, сажени в четыре шириною. Перепрыгнули оба. Атаман чуди не мог перепрыгнуть, но перебросил за ними меч. Богатырь с мотором озлобился, схватив меч, кинулся через реку обратно и схватился с атаманом. Дрались они недолго, наконец, лопарь свалил чудина.
Покажи язык! Тот показал, лопарь отсек ему язык его же мечом и ушел. Атаман вернулся и порубил половину своих за то, что никто не шел за ним. Потом он перебил остальных [207] лопарей, а женщин и детей их забрал в тупу и зажег ее, а сам с воинами ушел. В это время пришли два брата богатыря и, найдя многих еще живыми, вытащили их из тупы. Остальные сгорели.
Мне известно еще одно сказание о чуди, но уже несомненно позднейшего происхождения. Чудь собралась на лопь. Поставила амбары на лыжи, заготовила много лыж и бочку пороха, но с неба ударила моленья – всю чудь разнесло куда-то!.. Ни один жив не остался. Чудь потому так воевала, что лопь была очень в то время богата.
У туломских и сонгельских лопарей нет старинных преданий; рассказывают они только, как швед приходил и разорял их, убивая мужчин и женщин, а девушек забирая к себе; как от таких шаек лопари на лыжах уходили в далекие трущобы и лесные пустыни, прятались в землю. Замечательно, что между сказаниями сонгельцов и лопарей массельгских и эк-островских есть близкое сходство, но у первых уже не слышно о чуди. Враждебные деяния, убийства и грабежи, которые у массельгских, имандрских и лавозерских лопарей приписываются чуди, сонгельцы, лопари на Туломе, мотовские и печенгские инородцы повторяют, почти буквально, присвоивая их шведу. На реке Туломе есть небольшой каменный остров. Ночью лопари объезжают его с чувством, близким к ужасу. Оттуда им слышатся стоны, плач, гневные проклятья, звон мечей и звуки битвы. Ели, выросшие из трещин дикого камня, являются им окруженными белыми, вокруг витающими видениями. По рассказам стариков, швед (на Имандре – чудь) на лодках пришел воевать лопарей. “Сорок” погостов их уже были разорено. Постройки сожжены, вежи сравнены с землею, мужчины убиты, женщины кто помоложе и девушки отосланы “в вагу” (куда, в какую сторону – добиться я не мог). Во время одного из набегов, эти разбойники заночевали на каменном острову. Ночью, тихо-тихо подплыли лопари и, не смея сразиться со шведами, только взяли их лодки. На утро к берегам собралось видимо-невидимо народу. Все хотели знать, что станут делать шведы. Враги проснулись, “закрутились” (употребляю подлинное слово расскащика) по острову. Кинутся в одну сторону – вода, в другую – вода. И заплакал швед. Стал он просить милости. “Наши милости не дали”. Много шведов покидалось в воду, где лопари добили их стрелами. Другие стали бесноваться на острову. “И такое на них беснование нашло, что они друг друга мечами убивали. Точно дружка против дружки войной пошли; так никого и не осталось”.
– Как же они не попробовали спастись на елях? Срубили бы, да плот сделали, возразил я.
[208] – Тогда еще этих елей не было. Ели эти не простые, они над их могилками выросли. Между шведами была одна их девушка, та особенно плакалась. А как враги перебили друг друга, села на бережку и запела... жалостно запала, потом взяла меч и пробила им грудь свою. Кровь хлынула вот на этот камень. С тех пор он и остался красным.
Камень, действительно, быль красен.
У этих лопарей, в сонгельском погосте, я слышал еще предание более позднего происхождения. Коляне захотели отнять у них падун (водопада по реке Туломе за пять верст до истока ее из Ното-озера). Жаль было лопарям отдать это урочище. Очень уж хорошо в нем рыба ловилась. Что делать? Собрали суйму, потолковали и решили послать выборных к царю Петру. Царь принял их у себя в палатах, угостил на славу, водкой напоил. “Царь Петр очень лопарей любил”, прибавляют часто расскащики. На утро он выслушал их и дал им большой указ на Тулому с падуном и велел держать этот указ в лесу, в тайном месте, где он лежит и теперь, пробитый копьем.
– Зачем же копьем?
– А затем, что если коляне нарушать его – так идти на них войною.
Об указах и разных договорных актах, пробитых копьями, мне приходилось слышать и по Имаидре, и в Лавозере, причем значенье этого везде одинаково: “идти войною в случае нарушения права”. Не указывает ли это на древний обычай лопарей – предоставляю судить этнографам.
Зимою на посидках (употребляя более подходящее русское слово) туломская и сонгельская молодежь поет любовные песни, каждый своей девушке. Песни эти иногда импровизируются на месте. В том и состоит искусство лучших певцов. В последнее время в обычай стали входить мотивы русских песен. Прежде были свои: старухи их и до сих пор помнят. Я слышал один мотив – такой же, как и все лопарские – однообразный, гортанный. В одном “кентище” пришлось мне встретить старую лопарку, которая помнила песню, сложенную в честь ее. Песня эта была чрезвычайно оригинальна: девушка чествовалась в ней, как “белая важенка”. Важенка – по лопарски алтт, самка оленя на пятом году. Говорилось, что у нее после замужества будет много вуазыт (телят) и все белые, что ее кунбас или кондас (олень, самец) должен гордиться такою красавицей. Песня заканчивалась так:
Пойду я на горы, на высокие крутые вараки...
Пойду я на вараки...
Возьму я с собою стрелы, большие железные колья,
[ 209] Возьму я с собою стрелы,
Набью я на вараках диких оленей, крупных и жирных оленей,
Набью я оленей.
И сыграю я свадьбу, веселую, пьяную свадьбу,
Сыграю я свадьбу...
В последнее время лопари начинают заимствовать русские сравнения для своих любовных песен: “белая голубка, лебедушка и другие”; прежде же они сравнивали девушек с веселыми чайками, с юркою кумжей, что зачастую выскакивает из недвижных речных плесов, с важенками и даже с деревьями и цветами убогой лапландской флоры. Мне встретилась даже песня, заканчивавшаяся припевом: “Му горе куасса пуале” (у сонгельских лопарей), т. е. приходи ко мне в гости. Поют ее на бегу райдой (поезд на оленях). Есть одна песня о сердитом отце. Там он сравнивается с порогом “Кривцом” на Туломе, где река мечется и бушует в скалах, преграждающих ей путь. В одном предании мне встретилась, между прочим, меткая, чисто русская фраза: “без денег и чирей не вскочит”. Коляне, по их собственному признанию, заимствовали ее у лопарей. Лопари туломские до сих пор верны новгородской старине. Между прочим, там до сих пор живет слово “ушкуйник”. Лесенку, по которой они всходят, чтоб рассмотреть, попала ли рыба в невод, они называют “рюриком”. У самого “туломского падуна” от рабочих, нанятых для лова семги колонистом Савиным, я слышал одно старинное предание о горном духе. Передаю его теми же словами, какими и оно мне было рассказано стариком-сонгельцом. “Великий горный дух, ростом с десять старых сосен, охотится с своими собаками, каждая с быка (оленя-самца) величиною, на большого белого оленя с черною головой и золотыми рогами. Охота эта продолжается уже несосветимо сколько лет, и когда дух пустит в оленя первую стрелу – будет первое землетрясение: все старые каменные горы рассядутся, выбросят огонь, реки потекут назад, озера иссякнут, море оскудеет... высохнет. И когда “великий охотник” пустить в оленя вторую стрелу, которая вопьется ему в черный лоб, между двумя золотыми рогами, огонь охватит всю землю, горы закипят, как вода, на место морей поднимутся другие горы и тоже, как факелы, загорятся, озаряя ту далекую землю, откуда идут к нам льды и дуют холодные ветры. А когда на оленя кинутся собаки и растерзают его, когда охотник вонзит нож в его сердце – звезды попадают с неба, старая луна потухнет, солнце утонет где-то далеко, далеко. На земле не останется ничего живого – и миру конец”. В этой легенде очевидно влияние скандинавского старого культа; по крайней мере, образы ее как будто выхвачены от туда. Рассказывая это поверье, старик стыдился его, да и другие лопари [210] укоряли: “Зачем неподобное говоришь”. Через нисколько лет, это поэтическое предание будет забыто, как позабыты многие другие сказания, прочно жившие некогда в земле лопской.
Перейду к другим сказаниям, где имя чуди не встречается.
Шли два лопаря – два брата со стрелами по берегу реки и видят – посреди реки на камне сидит девушка и золотым гребнем чешет волосы. Один хотел стрелять в нее, уже и стрелу наладил, да другой брат крикнул водяной девушке, чтоб она спасалась. Водянка бросилась в воду, а золотой гребень оставила на камне. Хотевший стрелять взял гребень и пошел домой. Ночью в тупу к нему пришла водяная, отняла гребень, тупу подожгла с четырех сторон и “по росе” добралась до воды. Братья жили отдельно. И тогда как один погиб в огне; другой, спасший водяную девушку, стал богат и имел от нее много детей.
Такое же точно предание привелось слышать мне на Имандре, только гребень здесь был уже серебряный.
Против Эк-островского погоста есть остров, где в незапамятную старину, когда лопари были еще язычниками, жил их бог. Он не любил, чтоб мимо проезжали ночью, после заката солнца до утра, и за это страшно наказывал пловцов. Ему приносили в жертву оленьи рога, и столько их было там сложено, что они загромоздили весь остров. Тем, кто привозил ему такой дар, он посылал хорошей промысел. Раз, после заката солнца, проезжал мимо старик со старухой. Бог рассердился и свернул старухе голову лицом назад, затылком вперед. Опечалился старик. “Уж и жить нечего”, думал он, потому было горько видеть ему жонку свою в таком положении. Дождался он утра, взял карбас, приехал на остров и начал разбрасывать оттуда рога на все стороны. В реку их вывалил пропасть, и теперь еще лопарям случается вытаскивать их неводами. Наконец, когда выбросил он последнюю охапку рогов, омрачилось небо, загремел гром, и на острове послышался страшный рев. Дух собрался оставлять свое излюбленное место. В виде тучи поднялся он оттуда и поселился на большом озере в Хибинских горах. Посредине озера и теперь есть громадный камень, издали похожий на дом. И щели в нем расположены, как окна; есть выбоина, похожая на дверь. Тут и зажил бог, и стал он шутить над людьми. Кто едет по озеру да засмеется или скажет громкое слово – поднимется буря или просто в самую ясную погоду челнок на дно пойдет. Как лопари стали христианами – бог пропал. По другому варианту, бог преобразился в четырех воронов, живущих в окнах и дверях этого дома. Когда лопари промышляют на озере, вороны ходят около и громко кричат. Никто их [211] пугать не смеет; потому, тронешь и сам пропадешь... Там многое и до сих пор еще чудится, слышен шум, в доме раздаются чьи-то разговоры, а ночью – громко рыдают.
У лопарей есть и романические былины, свидетельствующие о том, как глубоко и безраздельно умеют любить эти номады. Одна из таких мною записана в Бабенге. Пришел иностранный корабль к Семиостровам. Давно это случилось. Жили тут муж и жена – лопины. Больше никого не было. Лопка была такая красавица, что и у русских не найти, “хоть всю Колу изойти”. Когда пристал иностранный корабль, муж был на охоте за куроптями (куропатками). Увидали с корабля лопку, подивились красоте ее да потом захватили ее с собою, связали и только что подняли паруса и поплыли вперед, как муж прибежал с охоты. Жены на берегу нет – стоит и плачет на корабле. Муж побежал за нею. Корабль плывет, а он вслед бежит по берегу да кличет жену по имени; таково ли громко кличет да вперемежку плачет. А корабль все вперед да вперед. Наконец, увидел он, что корабельщик смеется над ним, схватил свой лук, и только, что хотел пустить стрелу, как жена ему крикнула; “я уж пропала, зачем же тебе пропадать? пожалей себя”. Лопин послушал, только все бежал за кораблем. Он преследовал судно от Семиостровов до Св. Носа, тут и упал от устали. Бежал он так, что куропоть сварилась у него за пазухой, а через три дня он тут же от тоски и умер.
Жила в Мотке (Большой Мотовской залив) красавица-девушка лопская, с подругой. Почувствовала она приближение необыкновенного сна и говорить невестке: “Не буди меня, сколько я спать ни буду”. Спала она три дня и три ночи, наконец, проснулась, и обращается к подруге: “Знаешь ли ты, любимая моя, откуда у меня богосуженый будет?”. Подруга по очереди переименовала молодежь изо всех погостов. “Не Васька ли из Пазреки?” – “Нет, у него шапка стара”. – “Не Иван ли из Воронежского погоста?”. – “Нет, он ходить грязно”. – “Не Мошников ли с Сонгельского?” – “Нет, у него глаз крив”, – “Не Семенко ли с Нот-Озеро?” – “Нет, у него нога хрома”. – “Не Иван ли с Масельги?” – “Нет, у него олени черные”. – “Не Петро ли с Кильдинского?” – “Нет, у него вежа мала”. Так перебрала все погосты подруга, а богосуженого все нет. Наконец, девушка и говорить: “Не будет мне богосуженого из своих, а придет он из-за моря на трех кораблях, через трое суток. Увидит он меня и сватать не станет, а просто бросит мне две вареги, возьмет за руку и уведет на корабль”. Подруга плачет, а через три дня, через три ночи приходят корабли; сошел с них какой-то чужой, бросил девушке вареги и взял ее с собою. Семь [212] лет не было о ней никакого слуха. Только потом стало известно, что все это время он держал ее у себя в темноте, белого света она не видала; семь лет учил ее по своему, рвал ее тело железными щипцами, жег ее; наконец она выучилась и он повез ее назад, к отцу ее в гости. Еще корабль далеко был, а она уж стояла на палубе и все родной земли искала. Сама стоит, слезы так и льются, а как увидела Мотку да берег свой, так оземь и ударилась. Наконец, приехали, прожили неделю, и стал собираться ее муж назад. Взял он, снес ее на корабль и поплыли они; прошли мимо пахты Ейны; тут она села на палубу и, глядя на родную землю, стала петь. Все она сначала пела, как жила у отца, как сон увидала, как с подругой говорила. Лопари эту часть сказки поют, повторяя ее с начала буквально. Пела девушка и плакала. В песне перечисляла все, что она вытерпела, как жила потом в чужой стороне и как там богато живут; пела она о том, какие у нее платья там есть, сколько денег, какие вещи. Но ради всего этого она не может забыть родной стороны. Наконец, допела и когда в последний раз увидала вдали своей берег – бросилась в море. Три дня и три ночи искали ее там и найти не могли. Так и пропала лопарская красавица.
Напев песни этой несколько дик и печален. Слушая ее, лопари плачут, а девушки и потом долго тоскуют. Мне ее пела одна пожилая лапландка. Слезы катились по ее лицу, и видно было, что она, несмотря на частое повторение песни, живо сочувствует печальной судьбе героини этой сказки и этой песни. Как мне потом передавали, у лопарей есть одна из песен, начинающаяся сказкой. Сначала говорится сказка, потом поется. Я, кроме рассказанной, не встречал таких больше.
У лопарей на реке Ене я слышал следующую песню:
“Пошел я на большие вараки, пошел за охотой, за охотой на оленя. Оленя убил большой стрелой, большой стрелой, железной стрелой... Прямо в сердце ему прошла эта стрела, прямо в горячее кровавое сердце, и упал он на снег и не двинулся... Взял я его с собой в погост, на плечах принес в погост, на плечах принес тяжелого... Срезал я ему рога, срезал я ему рога и бросил их в море. Большие рога бросил в море... Срезал я ему копыта, срезал я ему копыта и бросил их в реку... Принес оленя домой, принес его домой, отдал отцу и матери его мясо... Отдал отцу и матери его мясо, а пойду 4 да сердце кровавое, горячее кровавое сердце отнесу своей милой, любезной...”
[213] У меня не мало записано таких песен и сказок. Некоторые из них, очевидно, составлены под влиянием русских, другие совершенно оригинальны, но все же носят на себе следы влияния русских. Однообразные мотивы песен веют окружающею лопаря природой. Напев их представляет постоянное повышение и понижение тона на терцию. Лопарская песня чрезвычайно напоминает переливание воды в ручье, тихое журчание потока. Помимо своей поэтичности, сказки и песни этого народа дадут этнографу богатый материал для заключения о старине лопской. Указания на чудь, борьба с чудью – многознаменательны. В связи с преданиями корелов и норвежских лопарей, собранных Фрийсом, они создают целый особый мир легенд о кровавой эпопее прошлого когда вся эта прекрасная приполярная страна обагрялась кровью ее мирных жителей. В тех же песнях особенно рельефно обнаруживается преданность лопаря к своей родине, мягкость и нежность его чувства, миролюбие и способность его к глубокой любви, делающее это честное и благородное племя чрезвычайно симпатичным для этнографа. Сведения, собранные мною о быте и жизни лопарей, чрезвычайно интересны. Это целый новый мир, имеющий мало общего с тем, к чему мы привыкли у себя. Впоследствии я намереваюсь составить полную, возможно подробную бытовую картину терской и мурманской лопи. Теперь же могу только выразить крайнее сожаление, что недостаток средств не позволил мне выполнить задуманного намерения пройти Лапландию, от запада на восток, через весь Кольский полуостров.
Итак, еще одним племенем без сказок и песен менее. Найдена песня и сказка русских лопарей, последующие туристы также, может быть, найдут легенды и у самоедов, и у карачаев, и у остяков. Человек не может забывать свое прошлое, как бы бледно оно ни было – следовательно, должно быть предание: человек не может не любить и не волноваться, следовательно, должна быть и песня.
Примечания
[197]
1 Лопари в этом случае тундрами называют горы, поросшие ягелем.
[203]
2 Пахта - скала.
3 Урус - моров.
[212]
4 Пойда – оленье сало.
© OCR Игнатенко Татьяна, 2011 г.
© HTML И. Воинов, 2011 г.