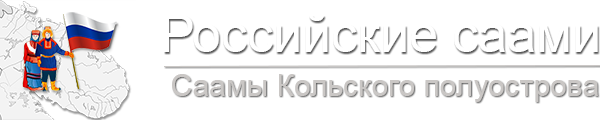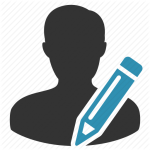Вольноотпущеники

- Автор: Кураев М.Н.
- Местоположение: Санкт-Петербург
- Год: 2010
Просмотры: 3231
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Журнал"Мир севера". Архив : №28. 09.07.2010
На языке саамов нет слов «негодяй», «скандалист»,
«похабник», «душегуб», «убийца».
«Убийца» переводится с языков более развитых
народов невнятным идиомом «человек, взявший нож»,
что никак не помогает раскрытию важнейшего в
жизни цивилизованных народов понятия.
В повстанческо-террористическую организацию Ивану Михайловичу Михайлову удалось собрать тридцать четыре человека. Шестерых из них, однако, пришлось просто отпустить и судебное преследование прекратить, поскольку эти шестеро, четверо саамов, один ижемец и один финн, хотя и понимали по-русски, но никак не могли взять в толк, просто не могли понять, о чём говорит младший лейтенант госбезопасности Иван Михайлович, чего от них хочет. К ним и особые методы дознания, рекомендованные в своё время московским руководством самых высоких инстанций, применять было бессмысленно. Выходить с такими на суд смешно. Особое совещание, конечно, не совсем суд, но не хотелось перед ленинградскими коллегами ударить в грязь лицом и бросать тень на свою работу, а такие могут подорвать доверие ко всему следствию.
 О! Если бы Иван Михайлович Михайлов знал, что из тридцати четырёх вычисленных им для обвинения в Саамском заговоре жителей Краснощелья, Чальмны-Ваара, Поконьги, Ловозера, Семиозерья и Вороньей, безнадёжных, с которыми не было никакой возможности найти общий язык и выйти на суд, окажется целых шесть человек.
О! Если бы Иван Михайлович Михайлов знал, что из тридцати четырёх вычисленных им для обвинения в Саамском заговоре жителей Краснощелья, Чальмны-Ваара, Поконьги, Ловозера, Семиозерья и Вороньей, безнадёжных, с которыми не было никакой возможности найти общий язык и выйти на суд, окажется целых шесть человек.
Намучавшись, конечно, сгоряча младший лейтенант Михайлов, как уже доложено выше, шестерых просто прогнал в шею.
Вот, к примеру, саам Курёхин, Сальма Нестерович, 1883 года рождения, хоть и неграмотный, а оказался крепким орехом, пришлось попотеть, и всё равно вышла осечка.
Протоколы можно трясти сколько угодно, и всё равно не узнаешь, что спасло отца девятерых детей от окончательной поездки в Ленинград, а спасла Сальму Нестеровича, скорее всего, прирождённая смешливость.
Жизнь его сложилась так счастливо, что он понимал всех вокруг, и все вокруг понимали его. А то, что было ему не очень понятно, например, та же метеорология, занимающая целый дом и двор в Ловозере, так это незнание не доставляло ни ему, ни окружающим никакого беспокойства и никак не усложняло жизнь. Он видел, что русские одеваются не так, как саамы, живут в душных домах, а не в продуваемых ветерком вежах и тупах, ездят на лошадях, не умеющих бегать по снегу, а не на оленях, но это его нисколько не беспокоило, как не беспокоило, почему куропатка спит, зарывшись в снег, а белка на дереве.
Он понимал куропатку и понимал белку, и был уверен, что и его понимают. Скорее, это было не совсем понимание, это было доверие, доверие разуму куропатки, которая знает, что делает, доверие и белке, которая тоже лучше его, саама, знает, где ей ночевать и как выводить своих детёнышей. Он доверял этому миру, верил в его разумное устройство и был убеждён в том, что и куропатка, и белка так же понимают и его, немолодого саама, и так же ему доверяют. Когда он накидывал аркан на шею избранного к закланью оленя, он улыбался и не верил, что упирающийся олень не хочет стать радостью для его семьи. Олень упирается точно так же, как толкает в грудь, упирается девушка, хотя хочет того же, чего хочет и сам весёлый Сальма Нестерович. Он смеялся, когда стискивал в своих объятиях девушку, и смеялся, когда выбирал в стаде хорошего зрелого быка для домашнего пира.
– Не сердись, большой начальник, – сказал подследственный Курёхин через полтора часа допроса. Он чуть склонил к плечу голову, торчащую из круглого мехового воротника, как из спасательного круга, сощурил свои и без того узкие глазки и с хитрецой улыбнулся. – Отдай мне винтовку, и я пойду домой. Погода плохой. Охота не будет.
Воротник печока был из шкуры росомахи, на ней не оседает иней. Реденькая, как у всех старых саамов, борода подследственного смешивалась с меховым ворсом воротника. Седого, а тем более лысого саама не встретишь, а проседь, если и пробивается в волосах, так только после пятидесяти.
И если бы у Сальмы Нестеровича не просвечивала забывшим растаять мелким снегом редкая проседь на висках, его и вовсе можно было бы за малый рост и простодушную улыбку принять за подростка.
Голова у подследственного была идеальной круглой формы, что говорило о немалом родительском искусстве. Стало быть, вскоре после рождения вовремя надели на голову новорождённого кожаную округлую, плотную, как купальная шапочка, капку с красным тампоном. Девочкам полагался тампон синий или голубой. Круглая голова, во-первых, это красиво, во-вторых, быстрее зарастает на голове младенца родничок, место уязвимое. Хорошая вещь капка, и гигиенично, и безопасно, и быстрей ходить ребёнок начинает, уже в два года. И вообще саамы долихоцефальную форму лица считают уродливой, иное дело брахицефальная, и не то чтобы она достигалась какими-то насильственными средствами, нет, капка и добрые, нежные руки родителей во время купания ребёнка лишь помогали природе.
Весь подследственный так был упакован в оленьи и ещё чёрт знает какие шкуры, что бить его можно было хоть оглоблей и ничего не выбить. Можно было выбить зубы, но смеющийся рот смотрел на Ивана Михайловича какими-то остатками редких полугнилых пеньков, да и обветренное, изрезанное морщинами округлое лицо, то ли прокоптившееся в дымной тупе, то ли не потерявшее загара за зиму, казалось выкованным из меди.
Тут любой на месте Ивана Михайловича не выдержал бы, не выдержал и Иван Михайлович. Он достал наган и дважды грохнул рукояткой по столу, да так, что с двухтумбового письменного стола со светлой столешницей, крытой в середине чёрным дерматином, чуть не слетел массивный чернильный прибор из яшмы, в своё время конфискованный его предшественником у ижемца купца Терентьева. Чернильным прибором был купчина вознаграждён от епархиального управления, посильно упреждавшего воздаяние небесное, за то, что Терентьев заготовил и доставил четыреста брёвен на строительство новой церкви, когда Богоявленская в Ловозере сгорела.
Ни один мускул не дрогнул на обожжённом морозом и помятом ветрами лице Сальмы Нестеровича, впрочем, выражение лица было не столько удивлённое, сколько выжидательное.
«Зачем наган стучал? – спрашивал себя подследственный, уставившись узенькими глазками в лицо следователя. – Зачем слова не говорил? Медведя понимал. Белку понимал. Начальника не понимал». Сальма Нестерович был полон желания помочь сердитому начальнику и не знал, как это сделать.
Иван Михайлович обычно после ударов наганом по столу приходил в такой азарт, что переход к «особым методам дознания» был лёгким и естественным. Но что-то сдерживало его порыв. И он знал это «что-то». Он видел, видел устремлённый на него взгляд. В нём не было той уверенности разного рода начальников, которых приходилось обламывать на допросе. Не было ни злобы, ни страха, ни тупой безнадёжности, предвестника скорого и благополучного конца допроса...
«Да может ли этого чурбака что-нибудь напугать?!»
В узких щёлках глаз, в лёгком наклоне головы, в сосредоточенности и внимании было столько участия... Вместо страха – внимание, вместо желания спастись – сочувствие. И без тени укора. Да, Ивану Михайловичу случалось, и не раз, слышать от поднимающегося с пола подследственного жалкие слова: «Что же вы делаете?»
А ведь именно этот вопрос больше всего и занимал Сальму Нестеровича, но не в плане укоризны, а в самом прямом. За долгую жизнь он встречал разных людей, и знакомство начиналось с ответа на вопрос: «Что делаешь?» Рыбак. Понятно. Охотник. Понятно. Врач. Продавец. Милиционер, тоже понятно. Начальник в исполкоме говорит «можно», говорит «нельзя». Понятно. «Что делает сердитый начальник? Непонятно...»
– А медведи у вас есть? – неожиданно для самого себя спросил Иван Михайлович, убирая со стола наган.
– Хорошо у нас медведю. Много медведя у нас есть, – Сальма Нестерович наконец-то понял, чего от него добивался сердитый начальник. – И в лесу хорошо, и у реки медведю совсем хорошо. Сига, кумжу кушает.
– А сам встречал? – с неподдельным любопытством, даже на минуту забыв о служебном долге, спросил младший лейтенант госбезопасности.
– Сам встречал. Много встречал. Летом прошлым встречал.
– Где?
– На реке встречал. Воронью переплывал, а он навстречу. И он переплывал, надо ему было.
– Далеко?
– Не так далеко, как до тебя. Чуть веслом его не ударил.
– А он что?
– Он видит, я встал, поклонился. Он меня не тронул. Нельзя медведя обижать. На воде обидишь, он тебе и на карбас бросится, и не посмотрит.
– А если бросился, что делать? – младший лейтенант живо представил себе мохнатую лапу вздыбившегося из воды зверя, уцепившегося за борт лодки и ощерившегося смрадной пастью. На всякий случай надо знать, как действовать.
– В воду прыгаем, за лодкой прячемся. Покружится, покружится, да надоест, и уйдёт... А если в лесу издали видим, ловим его, петлю на башку ему бросаем... Давим его... – Сальма Нестерович вопросительно посмотрел на начальника, уверенный в том, что наконец-то смог удовлетворить его любопытство.
Кабинет уполномоченного Михайлова, несмотря на небольшой размер, оставлял впечатление пустынного. Два стула, стол, шкаф железный, крашеный, и портрет Михаила Ивановича Калинина. Кабинетик в общем опрятный и деловой.
Со стены на подследственного добрыми глазами через стёкла простых очков смотрел старенький человек с остренькой бородкой, в рубашке с косым воротом, какие носят русские мастеровые. Намётанный глаз охотника мог приметить, что рама была в двух местах сильно побита, а явные повреждения были только закрашены.
К этому портрету Михаила Ивановича Калинина хозяин кабинета относился как к одному из знаков своей доблести.
В Ловозеро время от времени наведывались кооператоры и агенты Госторга. Приезжали они для закупки пушнины и мяса, а привозили всевозможные продукты питания и хороший, как правило, подбор одежды. Напившийся до потери разума и политического сознания заготовитель Госторга Степан Васильевич Лыбко, не раз уже спотыкавшийся на своей работе, снял в конторе кооператива со стены портрет всесоюзного старосты, прибил гвоздями к деревянной снеговой лопате и вышел на улицу, шатаясь и выкрикивая что-то по форме нечленораздельное, но по содержанию праздничное. Это было через месяц после вступления Ивана Михайловича в должность в райцентре Ловозеро. Всё ему было внове, особенно его почему-то удивляли оленьи рога, прибитые на конёк крыш вросших в землю дворовых амбаров. Обида от скромного назначения немного утихла, а ожесточение ещё не набрало силы. Иван Михайлович лично задержал государственного коробейника, передал его дежурному по милиции, а портрет взял себе в кабинет, чтобы не чувствовать себя там одиноко. Как ни был пьян поклонник Михаила Ивановича Калинина, а гвоздями изображение дорогого руководителя не повредил, так что уцелел и портрет, и Лыбко, щедро отблагодаривший Ивана Михайловича за проявленное к нему снисхождение и понимание всей сложности работы заготовителя в заполярной глубинке, вдали от родного очага.
Бубен пританцовывающего и припадающего с одной ноги на другую нойда был для саама Курёхина куда понятней, чем слова сердитого начальника в военной гимнастёрке без погон. У шамана-нойда тоже была подвеска-звезда, но Сальма Нестерович знал, для чего она. Она может освещать путь, если вдруг нойда попадёт в Нижний мир, без этой звезды в Верхний мир не подняться. У сердитого начальника тоже была звезда, над карманом военной рубахи. Углы звезды были пунцовыми, словно налитыми брусничным соком, очень красивая звезда, но куда она ведёт или откуда может вывести, подследственный Курёхин не знал, но был уверен, что сердитый начальник об этом знает точно. Хотел спросить, улыбался и выжидал подходящий момент.
Старый саам знал много, он знал, как найти под Полярной звездой вход в Верхний мир, знал, что туда можно попасть через дым очага и при помощи духа птицы, знал, где живёт священный олень Мяндаша, но, как ни силился, не мог понять, где, в каком стане обитают «постанцы», о которых говорит военный человек-начальник.
Единственное, что понял старик из сказанного военным начальником, рассмешило его до слёз. Кто-то сказал начальнику, что он, Курёхин, Сальма Нестерович, саам из становища Воронье, хотел поджечь тундру, сжечь ягель и уморить всех оленей с голоду. Он хохотал, покачивая головой, приоткрывал слезящиеся от смеха глаза и видел хотя и сердитое, но чуть растерянное лицо начальника, видимо, понимающего, что ошибочно сказал что-то смешное.
– Ноо!.. Тундра мокрый, – отсмеявшись и вытерев меховым рукавом своего печока лицо, сказал подследственный Курёхин. – Вода как горит? Не горит вода? Ноо!.. Йиммель-айа не может поджечь тундру.
Вежа ловозерских саамов на берегу Ловозера
Вежа ловозерских саамов на берегу Ловозера
Саамы любят вставлять это универсальное и уже бессмысленное «ноо» в любую фразу, как в наше время стало модным заключать в разговоре чуть не каждую фразу бессмысленным вопросительным «Да?», наследие какого-то адвокатишки из «Жизни Клима Самгина». А вот кто занёс это бессмысленное «ноо» в чистую речь саамов, едва ли удастся установить. В этом словечке и удивление, и восхищение, и недоумение, и предварение возражения, и всё что угодно, вроде новомодных «блин!», «вау!» или старомодного «Ну, ты даёшь!».
И снова не поняли друг друга деловой следователь и легкомысленный подследственный. Уполномоченный госбезопасности поставил рядом тундру и ягель в явном намерении усугубить обвинение, а получилось наоборот. Услышав о намерении поджечь тундру, саам рассмеялся. Если бы сказано было только про ягель, то ему было бы не до смеха. Ягель, как известно, растёт на сухих возвышенных местах, хоть и в лесу, хоть на горах, хоть на ровном месте. А раз место сухое, почему бы и не поджечь? А как поджечь тундру?
Ну что ж, были, были ошибки и в работе даже более опытных сотрудников, а Иван Михайлович, вот вам наглядный пример, работал без должного разумения. Ну, да бог ему судья.
– Иммель-айя? – переспросил младший лейтенант Михайлов, пододвинул лист бумаги и сделал карандашом заметку. – Где живёт?
Старик знал, что Йиммель-айа живёт на Седьмом, Медовом, небе, знал, что попасть туда можно только пройдя через небеса сначала Голубичное, потом Ресничное, после уже Вересковое, затем Заячье, Морошковое и Аметистовое, а там уже будет и Медовое. Он знал, что Йиммель-айа повелевает всеми другими божествами, Воздушными, Огненными, Земными, Водными, Домашними и Звериными. Он повелевает всеми и ни перед кем не держит ответа, он гордый, он знает все тайны, но даже Йиммель-айа не может поджечь тундру. Неужели о том, что знают все малые дети на любом становище, в любом селении, не знает такой большой начальник, украсивший себя звездой?
Курёхин не мог объяснить начальнику то, что впитал с молоком матери и мясом оленя. Он чувствовал этот родной во всех своих подробностях и неожиданностях мир своей просторной душой, не обременённой ни завистью, ни жаждой иной жизни. Он вбирал, как живое, требующее понимания и сочувствия, всё, что окружало его, – озёра, реки, камни, ягель, лес, горы, вараки, всё, что на земле, и всё, что посылает небо. В его вере, в вере его предков, мир Верхний, потусторонний, был не где-то, в недосягаемой дали, его граница проходила рядом, и по неосторожности её можно было перешагнуть, не управившись с карбасом на порогах, оступившись на краю скалистой расщелины, уснув застигнутым пургой в тундре. Тогда ты уйдёшь на Второе небо, где живут альм-олмынчь, «небесные люди», небожители – если по-нашему. А боги жили в камнях, и эти камни назывались сайды. Если рядом с сайдой шуметь, если позволить себе быть непочтительным, бог покинет свой дом и оставит тебе лишь холодный бездушный камень, с которым уже не поговоришь о жизни и ни о чём его не попросишь. Боги жили в озёрах и реках и по доброте своей дарили благодарных саамов рыбой, а тундра зверем. Но святые озёра надо беречь и протоки, ведущие к ним, по нынешним временам как можно лучше прятать...
– Повторяю вопрос? Где живёт этот Йемель? – взглянув в бумажку, грозно произнёс младший лейтенант госбезопасности.
«Где я, там и он», – мог бы сказать старик, но здраво рассудил, что начальник его не поймёт. Сердитому человеку какой толк рассказывать, как Йиммель-айа не раз спасал саама во время пурги, которая заставала его в тундре. Подняв нарты и уложив оленей, он делал для себя укрытие от летящего снега, это просто, но главное было не уснуть. И тогда Курёхин призывал Йиммель-айа, чтобы он ему пел и не давал заснуть. Йиммель-айа любит, чтобы с ним пели вместе, и Курёхин пел, пел, не позволяя себе ни прервать песню, ни уснуть, чтобы не рассердить своего строгого покровителя. У Йиммель-айа долгие песни, можно петь целый день, и два дня, всё время, пока метёт пурга. О чём поёт саам в пургу? Он поёт о том, что пурга застигла его в дороге, о том, что он ехал по важному делу, о том, что когда-нибудь пурга кончится и он поедет дальше. Йиммель-айа особенно любил, когда ему пели о его детях. И Курёхин пел о сыне Йиммель-айи, о Радиен-атче. Радиен-атче добрый, но о нём мало что знают, у него даже нет лица. И вовсе не случайно. У добра лицо того, кто творит добро.
Радиен-атче научил саамов высокой радости делать подарки. Когда они дарили друг другу по сто, по двести оленей, они не делались бедней, они становились богаче душой. Что может быть в жизни лучше подарка! Ты подарил, и тебе подарят. Но вот пришли новые люди, новые времена. Саам дарил оленей, дарил уже и последних, разорялся, но ждал и верил, что добрых людей не стало в мире меньше. Нищенствовал вместе с семьёй, но и на мгновение не сомневался, что всё делал и жил правильно.
Радиен-акка – жена доброго Радиен-атче. Богиня-мать. Её дело важнее многих, она творит души новорождённых детей и зверей. И у людей и зверей одни боги, дарующие жизнь. Курёхин пел про Раджиен-акку так, словно она действительно была его матерью, которую он не помнил, она утонула в озере, охотясь весной на тюленя, когда ему было четыре года и он только-только начал ходить. У Радиен-атче и Радиен-акка есть дети. Сын и дочь. Радиен-киедде, Бог-сын, любимый бог Курёхина, о нём он много знал и любил петь долго. Зона ответственности Радиен-киедде обширна, это весь земной мир, он следит, чтобы в тундре было достаточно ягеля, ягод, зверя, чтобы жизнь на земле не угасла. Рана-ниййта – Богиня-дочь, небесная дева, дарующая весну. Она украшает землю первой зеленью и травами, она украшает пригретые солнцем верхушки горок и безветренные укромности первыми цветами. Именно ей доверено судить умерших, кому быть в Верхнем мире, кому сгинуть в Нижнем... У какого ещё народа Последний Суд отдан в нежные руки весенней девы?
– Высоко живёт, – загадочно улыбнулся Курёхин, услышав вопрос военного человека, – на Медовом небе живёт. Ты людям начальник. Он всем богам начальник.
От радости посвящения нового человека в свою жизнь и веру старик рассмеялся.
«Дикари. Вот и имей с ними серьёзное дело!» – сдержал вздох и резко отодвинул от себя пустые листы протокола распаренный, уставший от этого так по существу и не начавшегося допроса Иван Михайлович.
Начальник сердился, и Курёхин Сальма Нестерович с привычной готовностью хотел ему помочь, но не мог понять, как это сделать.
Курёхин поёрзал на тяжёлом табурете, служившем Ивану Михайловичу средством вразумления непонятливых собеседников, и снова замер, положив на колени, упрятанные в высокие сапоги-тобурки, узловатые кисти рук, знающие вечный труд бедности. Он прислушался и угадал за окном подвывание Цяки, собачонки, увязавшейся за ним из Вороньей. Вот уже какой день она никуда далеко не уходила от милиции, демонстрируя несомненную готовность разделить судьбу хозяина.
И вот таких, как этот Курёхин, у Ивана Михайловича набралось шесть душ.
Бился с ними три недели, а потом плюнул, время стало поджимать, порвал заготовленные протоколы и выгнал их к чёртовой матери, лишь пожалев о напрасно потраченных немалых усилиях.
Так ведь Курёхин, Сальма Нестерович, ещё и уходить не хотел, всё пытался понять, зачем его так долго держали в душном, но тёплом, по сравнению не только с его летней вежей, но и зимним тупом, помещении. Кормили негусто, но бесплатно, кормили рыбой, кашей, давали настоящий печёный хлеб и не загружали никакой работой. Не считать же работой расчистку снега вокруг милиции. Двойная решётка на окне и какая-никакая охрана напоминала загон, напоминала клетку, но Сальма Нестерович за последние годы отчасти и привык к тому, что не всё понимает в новой жизни, но пока что ничего худого от новой власти не видел. Да и власть была представлена в большинстве своём знакомыми лицами.
Имея девять человек детей, Сальма Нестерович, надо думать, хотел им по возвращении в свою тупу в становище на реке Вороньей рассказать, по какому важному государственному делу он был приглашён и чем он занимался вдали от семьи. К общему огорчению, рассказывать особенно было не о чем. «Начальника огорчал. Начальник сильно сердился. Постанчески говорил. А чего постанчески, не говорил, – Сальма Нестерович обнял прижавшихся к нему малышей. – Учиться надо. Будете учиться, будете начальника понимать. Начальник не будет сердиться».
Когда Иван Михайлович увидел, как катастрофически тают ряды заговорщиков и повстанцев, он после долгой бессонной ночи нашёл выход, который особенно-то и искать не надо, за плечами был, как-никак, серьёзный опыт.
Теперь, задавая вопросы, он писал в протоколе всё, что нужно было для сурового обвинения, а зачитывал подследственным, не умевшим не то что разобрать его почерк, но и заголовки-то в газете с трудом читавшим, как бы те показания, которые они давали ему в ходе допроса. Выслушав зачитанное, подследственные, кто как умел, скрепляли листы допроса своими подписями-закорючками, после чего они приобретали непреклонную юридическую силу.
Забуксовавшее было следствие, едва не сорвавшее раскрытие Саамского заговора, пошло как по смазанным ворванью горбылям.
Суд Особого Совещания, в конце концов, тем и хорош, что на нём судебного следствия не проводят и прения сторон не допускаются.
Теперь уже, когда отступать было некуда, измученный бессмысленным запирательством, потеряв, наконец, всяческое терпение, Иван Михайлович часа через полтора-два откладывал перо и бумагу, вставал из-за стола, одёргивал гимнастёрку, словно хотел представиться в лучшем виде, подходил к такому непонятливому и резко и неожиданно бил в ухо. Собеседник летел на пол. У Ивана Михайловича в доверительных разговорах с коллегами этот следственный приём назывался «ошеломудить».
Не дав собеседнику подняться, Иван Михайлович обрушивал на него табурет, углы из толстых плах на славу сколоченного сиденья производили сильное впечатление.
Табурет в руках Ивана Михайловича именно в Ловозере неоднократно применялся как последний аргумент, в желании, наконец, склонить несговорчивых к даче правдивых, чистосердечных показаний. Да и держать и размахивать увесистым табуретом, ухватившись за нижние поперечинки, скрепляющие толстенькие четырёхгранные ножки, было вполне удобно. Углы табурета прошибали даже малицы и зимние, шитые мехом наружу печоки, прикрытые сверху от ветра парусиновой накидкой с дыркой для головы и рук.
Интересно, что некоторая плюгавость Ивана Михайловича, о которой он забывал только в минуты беспощадной борьбы с врагами, вынуждала его пользоваться одинаковыми приёмами как на путях получения чистосердечных признаний на службе, так и в ситуациях прямо противоположных, когда приходилось добиваться расположения граждан женского пола во внеслужебной обстановке. И в одном, и в другом случае нужно было лишить своего собеседника или собеседницу превосходства в росте.
Приглашая к себе домой предмет своих надежд, а женщины ему нравились рослые, Иван Михайлович тут же старался драгоценную гостью усадить, и по возможности пониже. Тогда, расхаживая вокруг неё да около, он лишал её возможности смотреть на него сверху вниз во всех смыслах. А когда дело переходило, как говорится, в партер, здесь рост уже не имел никакого значения.
Кстати, надо заметить, что в Ловозере, как раз среди ижемцев и саамов, Иван Михайлович смотрелся очень неплохо. Средний рост мужского населения среди саамов невелик, сто пятьдесят–сто пятьдесят пять сантиметров, женщины и того ниже. Иван же Михайлович достиг к своим тридцати шести годам уже ста шестидесяти трёх сантиметров, полных тридцати семи вершков. Так что чувствовал себя во всех отношениях старшим рядом с этими, не сравнявшимися с цивилизованными народами, детьми природы.
Михаил КУРАЕВ,
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Журнал"Мир севера"
Архив : №28. 09.07.2010